Некоторые соображения о грубости Георгия Константиновича Жукова
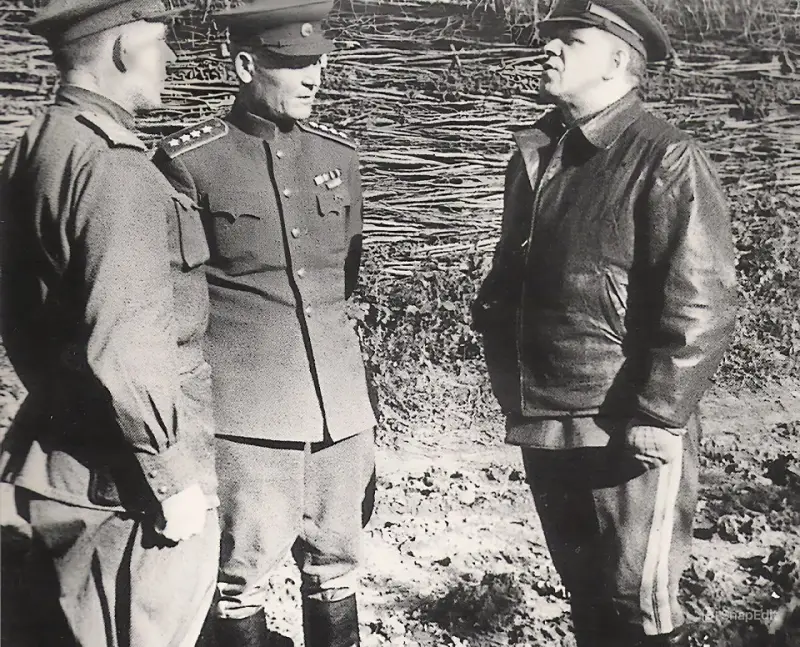
Вспоминаю один момент, когда после разговора по ВЧ с Жуковым я вынужден был ему заявить, что если он не изменит тона, то я прерву разговор с ним. Допускаемая им в тот день грубость переходила всякие границы.
Из воспоминаний К.К. Рокоссовского (ВИЖ, 1989, № 6).
Только полный идиот может поставить авиации задачу вести штурмовку огневых точек противника ночью.
Г. К. Жуков (из телеграммы одному из командиров дивизии).
(Материал является логическим завершением ранней публикации «О мемуарах как источнике достоверных исторических сведений на примере «Солдатского долга».)
Благодаря влиянию различных публикаций в нашем обществе еще в советский период исторически сложилось мнение, что маршал СССР Георгий Константинович Жуков был грубияном, часто оскорблял своих подчиненных и унижал их человеческое достоинство. Проще говоря, вел себя с подчиненными по-хамски. В постсоветский период благодаря радениям некоторых деятелей «свободной прессы» это мнение еще больше закрепилось и укоренилось среди обывателей.
Предлагаю попробовать объективно оценить справедливость подобной оценки личностных качеств знаменитого советского военачальника.
Принято считать, что на формирование человеческой личности основное влияние оказывают 2 фактора: 1) среда, в которой прошли детские и юношеские годы человека; 2) генетическая составляющая – основные личностные черты его предков, которые человек унаследовал и, в свою очередь, проявляет в отдельных периодах своей жизни.
Под влиянием среды, формирующей личность, врожденные достоинства могут получить развитие и ярко проявиться, а недостатки сгладиться. Или наоборот.
Г.К. Жуков родился в конце позапрошлого века в небольшой деревеньке Стрелковщина Малоярославецкого уезда Калужской губернии, находящейся в зоне Нечерноземья.
Семья Жуковых была даже по тем меркам очень бедная, его родители сельским хозяйством не занимались и старались снискать хлеб насущный различной поденной работой. Поэтому часто месяцами не бывали дома, и ведение домашнего хозяйства с ранних лет легло на плечи маленького Жоры, приучив его к самостоятельности. Суровая среда формирует суровый характер, и будущий военачальник сформировался как малокультурный юноша, что отражалось в его простой речи, порой сдобренной (как и у всех деревенских) отборным матерком. Но при этом он являлся типичным представителем крестьянской среды того времени — все его сверстники, крестьянские дети, были такими же.
Мне думается, что ключом к разгадке склада личности Г.К. Жукова является любопытный фрагмент из его воспоминаний:
«Я очень любил отца, и он меня баловал. Но бывали случаи, когда отец строго наказывал меня за какую-нибудь провинность, и даже шпандырем, требуя, чтобы я просил прощения. Но я был упрям – и сколько бы он ни бил меня – терпел, но прощения не просил. Однажды он задал мне такую порку, что я убежал из дому и трое суток жил в конопле у соседа…».
С точки зрения человека культурного в данном фрагменте содержатся явный логический парадокс или лукавство рассказчика: ну как сын мог очень любить отца, который драл его, словно «сидорову козу»?
Но, видимо, с позиции мировоззрения Жукова никакого противоречия тут не имелось: по его мнению, отец поступал совершенно справедливо и применял точно такие же воспитательные меры, что и другие отцы крестьянских семейств той эпохи. И лупил он сына не ради собственного удовольствия, а для его же блага, с воспитательной целью, наказывая за провинность. Следовательно, у сына не было оснований его не любить.
И здесь же мы видим проявление другой типичной жуковской черты: его неуступчивости и упорства при отстаивании своего мнения, которое он считает правильным.
Но детство и юность быстро пролетели, молодой Жуков попадает на Первую мировую войну в кавалерию и опять оказывается в родной крестьянской среде вместе с такими же, как и он, пацанами и мужиками из деревень. И обнаруживает, что младшие командиры (унтеры) при управлении подчиненными используют те же самые жесткие диктаторские методы, что и главы крестьянских хозяйств при управлении своим семейством. Причем многие унтеры даже не стесняются пускать в ход кулаки. И опять же, чаще всего они это делают не из-за своей грубости, а потому что других воспитательных методов не знают. Да и их подчиненные, вчерашние крестьянские парни, воспринимают такую форму командования вполне нормально, потому что привыкли к ней с детства. Разве что возмущаются, когда некоторые унтеры слишком часто распускают руки не по делу.
Потом Жуков становится унтером и (видимо) сам начинает применять точно такой же жесткий метод командования, потому что других он никогда не видел. И в очередной раз убеждается в его эффективности.
Служба в армии молодому Георгию нравится, и после революции он записывается в новую народную армию.
Тут необходимо отметить, что РККА только формально называлась рабоче-крестьянской, а в действительности в основном состояла из крестьян, особенно кавалерия. И Жуков снова попадает всё в ту же хорошо знакомую ему крестьянскую среду, где он «в доску свой». Службу Георгий сначала начинает на рядовой должности и вскоре обнаруживает, что многие красные командиры-конники, тоже в основном вышедшие из крестьянской среды, используют точно такие же жесткие командные методы, как и дореволюционные унтеры. И, видимо, когда сам становится командиром, берет на вооружение данный метод, проявляя жесткость в отношении с подчиненными, считая это наиболее эффективным способом поддержания крепкой воинской дисциплины – залога высокой боеготовности подразделения.
Здесь стоит сделать небольшое отступление и заметить, что образ красноармейцев периода Гражданской войны был сильно мифологизирован советской историографией и особенно кинематографом, где эти люди представляются в весьма «облагороженном» виде. Правда о них лишь изредка пробивалась на свет благодаря редким честным публикациям, как, например, малоизвестная книга Бабеля «Конармия». И если красноармейцы действительно были именно такими, как представлены в этом произведении, то становится понятным, что управлять этими «бандами разбойников» могли только очень решительные командиры, применяющие чрезвычайно жесткие методы, вплоть до физического воздействия и даже расстрелов.
Это была жестокая война, на ней Жуков навидался всяких зверств и принял в них непосредственное участие. Например, свой первый советский орден новоиспеченный красный командир Жуков получил за умелое командование взводом в ходе подавления крестьянского восстания в Тамбовской губернии. Несомненно, что пережитое на этой братоубийственной войне добрее его уж точно не сделало.
В первую пору военной службы Жукову не везло: сначала он получил на мировой войне тяжелую контузию и оглох на левое ухо; затем, уже на Гражданской, был посечен осколками разорвавшейся гранаты и долго лечился в госпитале; и, кроме того, неоднократно болел тифом. Эти невзгоды дополнительно ожесточили и без того «не сахарный» характер будущего маршала.
Вот так под влиянием вышеперечисленных факторов сформировались характер и индивидуальный командирский стиль Георгия Константиновича Жукова.
Необходимо отметить, что в Красной Армии это был типовой стиль кавалерийского командира, и в этой среде Жуков если и выделялся, то лишь «сухостью» своего характера. Он был человеком целеустремленным, хотел сделать успешную военную карьеру и поэтому тянул лямку изо всех сил, не давая послабления ни себе, ни своим подчиненным. И порой проявлял к провинившимся строгость, граничащую с жестокостью, поступая точно так же, как когда-то поступал его отец. Только тот лупил сына шпандырем, а сын лупил своих подчиненных ором и резкими словами, иногда дополняя свою речь матом, полагая, что так его словесные посылы быстрее проникнут в глубины их примитивного сознания и основательнее там закрепятся.
Эту особенность Георгия Константиновича даже отметил один из его непосредственных начальников, С.М. Будённый, написавший в аттестации:
«…тов. ЖУКОВ Г. К. является: 1. Командиром с сильными волевыми качествами, весьма требовательным к себе и подчиненным, в последнем случае наблюдается излишняя жесткость и грубоватость…».
Так был ли Г.К. Жуков грубым?
И да и нет.
С позиции культурного человека сегодняшнего дня он представляется грубияном, человеком невоспитанным и не имеющим понятия об элементарных правилах вежливости.
Но в общей массе комсостава РККА той поры Жуков являлся типичным малокультурным, вышедшим из крестьянской среды строевым командиром, каковых в армии были тысячи. Следовательно, называть его грубым означает покривить перед истиной.
Очень часто многие исследователи допускают распространенную ошибку. Они мысленно извлекают человека из его эпохи, «перетаскивают» в свою и затем, сравнивая его со своими современниками и используя принятые современные оценочные категории, делают совершенно неверные выводы о его личностных качествах.
Объективно оценить личностные качества человека можно, только рассматривая его в той исторической среде, где он находился, и с учетом понятий «о добре и зле», действовавших в данной среде и в той исторической эпохе.
И если применять именно такой подход, то можно заключить, что будущий маршал вовсе не был грубым. Правильнее сказать, что он был типичным жестким советским руководителем тех лет.
Тут необходимо вспомнить, что период 20-х – 30-х годов в СССР был очень суровым временем, выковавшим соответствующих ему суровых и решительных советских руководителей: железных наркомов, как Каганович или Берия, суровых красных командиров, каковым был и Жуков, или решительных красных директоров, как, например, руководители автозаводов ЗИС и ГАЗ И.А. Лихачев и И.К. Лоскутов.
Да и сам глава государства И.В. Сталин был точно таким же.
Сейчас другая эпоха, люди стали культурнее и оттого мягче и добрее. Поэтому, когда они пытаются давать оценку большим историческим личностям той далекой эпохи, оперируя ныне принятыми оценочными категориями, то совершают ошибку в выборе подхода и в итоге приходят к неправильным выводам.
В мае 1923 г. Жукова, имевшего «за спиной» лишь краткий курс красных командиров, назначают командиром кавалерийского полка. Можно предположить, что в тот период его жесткий «командирский стиль» завершил своё формирование и на протяжении долгой военной карьеры больше не менялся.
Многие из его сослуживцев вспоминали, что Жуков часто «злоупотреблял голосом», или, проще говоря, распекая подчиненных, часто переходил на ор, что опять же приводилось в качестве яркого примера жуковской грубости.
Мне думается, что и здесь имеется сильное преувеличение. Стоит напомнить, что в кавалерии команды часто отдавались голосом. И командирам, руководящим подчиненными в бою или на маневрах, приходилось в прямом смысле орать, чтобы их команды в общем шуме боя были ясно услышаны всеми, кому предназначались. Поэтому наличие зычного командирского голоса для военачальника той поры считалось большим достоинством. Видимо, Г.К. Жуков выработал свой командирский голос еще в Гражданскую. И в общении с подчиненными он просто по привычке разговаривал очень громко, временами для лучшей выразительности добавляя в голос дополнительное «железо», что некоторыми непривычными к его манере людьми воспринималось как общение на повышенных тонах и даже переход на крик.
Кроме того, часто глуховатые люди разговаривают излишне громко, даже не осознавая этого.
И когда Георгий Константинович дорос до больших командных должностей, то его жесткий стиль командира-конника и «громогласная» манера уже не всегда подходили для руководства подчиненными ему генералами, некоторые из которых были выходцами из полу- и интеллигентской среды, поэтому воспринимали такую «природную» манеру Жукова как проявление грубости и хамства.

«Ободряющая» шифровка Жукова, направленная командиру 316 сд И.В. Панфилову, 17.11.41 г. 8.30.
Очень часто в качестве антипода Жукова выставляется Константин Константинович Рокоссовский. На мой взгляд, это большая ошибка – неправильно выбраны объекты для взаимного сравнения.
По поводу происхождения Рокоссовского среди историков до сих пор не утихают споры. Существует версия, что он родился в дворянской семье, в детстве получил хорошее воспитание, родители привили ему соответствующие культурные манеры, его детство было безоблачным, поэтому он вырос человеком вежливым и добрым. И этот заложенный в детстве стержень сохранил, даже став командиром РККА. Но таких командиров, как он, к началу 40-х гг. можно было пересчитать с помощью пальцев одной руки. Это были те самые исключения, которые подтверждают верность общего правила: большинство командиров рабоче-крестьянской армии были «жуковыми». Но говорить об этом в советской историографии было не принято.
И когда Георгий Константинович в хрущевские времена попал в опалу, то ему одному пришлось «отдуваться» за всех остальных – грубияном сделали одного его, хотя командиров, пользующихся такими же, как и он, методами руководства подчиненными, хватало и после В.О.В.
Поэтому уж если кому-то приспичило непременно с кем-то сравнить Жукова, то правильнее ему противопоставить, например, Конева или Москаленко. И я не удивлюсь, если при объективном сравнении Жуков окажется намного мягче и вежливее, чем они.

Шифровка Жукова, направленная командиру 1 гв.кк П.А. Белову
Подытоживая рассуждения, можно предположить, что слухи о грубости Г.К. Жукова чрезмерно преувеличены и рождены различными публикациями, вышедшими в период опалы маршала, когда многие бывшие его подчиненные в своих статьях и мемуарах припомнили устроенные им разносы и воспользовались удобным случаем, чтобы «побольнее пнуть» поверженного в мирное время маршала.
После ознакомления с моими рассуждениями у некоторых читателей может сложиться ошибочное впечатление, что конечной целью данной публикации является восхваление Маршала Победы.
Я вовсе не считаю Г.К. Жукова гениальным полководцем, никогда не совершавшим ошибок, и уж точно не стану называть его самым лучшим командиром Красной Армии (что само по себе нелепо). Мало того, я полагаю, что на нем лежит ответственность за расстрел невиновных людей из числа комсостава ЗапФ, которых следовало не казнить, а награждать.
Но, тем не менее, при этом я считаю Г.К. Жукова большой исторической фигурой, человеком, внесшим огромный вклад в дело Великой Победы, и хотя бы поэтому заслуживающим объективного отношения к оценке его отнюдь не простой личности и очищения от различной мифологической чепухи и злословия недоброжелателей.
Чему, собственно говоря, и посвящен данный, не претендующий на несомненную истину, философский очерк.
Опубликовано: Мировое обозрение Источник
















