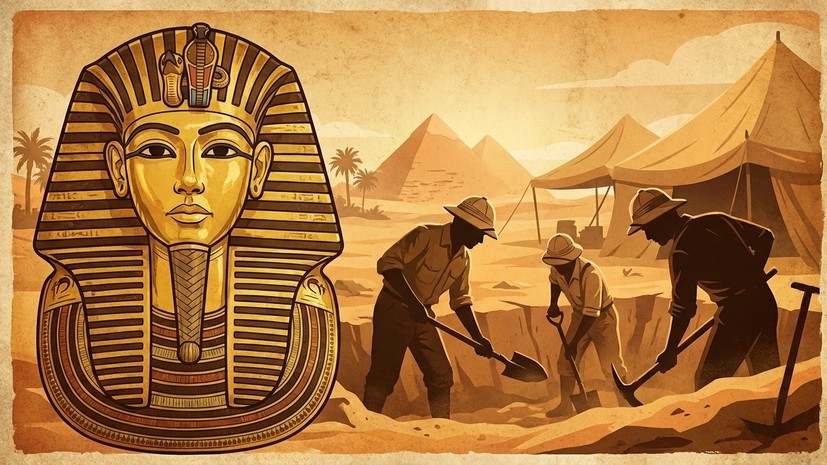Новая стратегия поиска внеземной жизни: В центре внимания – «непрерывные» зоны обитаемости. Что это значит?
Вопрос «одни ли мы во Вселенной?» давно перестал быть уделом фантастов и философов, прочно обосновавшись в кабинетах астрономов и на чертежах космических агентств. Поиск экзопланет — миров за пределами нашей Солнечной системы — идет полным ходом. И, казалось бы, всё просто: найди планету в так называемой «зоне обитаемости» у её звезды, и вот он, потенциальный кандидат на роль колыбели внеземной жизни. Но, как это часто бывает в науке, дьявол кроется в деталях. А точнее — во времени.
Почему «зона Златовласки» не вечна?
«Зона обитаемости», или, как её ещё поэтично называют, «зона Златовласки» — это та область вокруг звезды, где условия позволяют воде на поверхности планеты существовать в жидком виде. Не слишком жарко, чтобы всё испарилось, и не слишком холодно, чтобы всё замёрзло. Звучит логично, не правда ли? Однако тут есть подвох: звёзды — существа непостоянные. Они рождаются, живут и умирают, меняя свою светимость и температуру на протяжении миллиардов лет.

Возьмём, к примеру, наше Солнце. В своей «юности» оно было примерно на 30% тусклее, чем сейчас. И это ставит перед учёными интересный вопрос, известный как «парадокс слабого молодого Солнца»: как Земля умудрилась не превратиться в ледяной шар, если получала значительно меньше тепла? Вероятный ответ — плотная атмосфера с обилием парниковых газов. Но важно другое: зона обитаемости тогда располагалась гораздо ближе к Солнцу. И, кто знает, возможно, Венера, ныне адски горячая и безжизненная, в те далёкие времена могла щеголять океанами и вполне сносной температурой.
Со временем Солнце разгоралось, и зона обитаемости постепенно «отползала» наружу. Венера оказалась «за бортом» с внутренней, слишком горячей стороны, а Земля пока что уютно устроилась в её пределах. Но и это не навсегда. Солнце продолжает наращивать яркость (примерно на 1% каждые 100 миллионов лет), и в далёком будущем даже Марс, возможно, ещё получит свой шанс на потепление и жидкую воду. А через каких-то 4 миллиарда лет наше светило превратится в красного гиганта, раздувшись до невероятных размеров и испепелив внутренние планеты. Зона обитаемости тогда сместится к орбитам Юпитера и Сатурна, и их ледяные луны, возможно, превратятся в водные миры.
Так в чём же фокус? А в том, что просто найти планету сейчас в зоне обитаемости — это лишь полдела. Ведь жизнь, по крайней мере, в том виде, в каком мы её знаем, требует времени не только для зарождения, но и для того, чтобы оставить заметные следы своего присутствия.
Время — ключевой ингредиент
И вот тут-то на сцену выходит концепция «непрерывной зоны обитаемости» (НЗО). Идея, которую активно продвигают Остин Уэйр и Патрик Янг из Аризонского государственного университета, проста и элегантна: чтобы повысить шансы на обнаружение жизни, нужно искать планеты, которые находились в благоприятных условиях достаточно долго.
На Земле фотосинтезирующим организмам потребовалось около двух миллиардов лет, чтобы насытить атмосферу кислородом — одним из самых явных биомаркеров, который мы могли бы обнаружить на далёкой экзопланете. Поэтому учёные предлагают сосредоточиться на мирах, которые провели в зоне обитаемости своей звезды не менее этих двух миллиардов лет (такую зону они обозначают как НЗО2). Именно на таких «ветеранах обитаемости» вероятность найти атмосферу, изменённую деятельностью живых организмов, значительно выше.
Согласитесь, это сильно меняет правила игры. Одно дело — просто «попасть в цель» здесь и сейчас, и совсем другое — учитывать всю предыдущую «биографию» планеты и её звезды.
Новая карта для охотников за жизнью
Как же определить, какие звёздные системы являются наиболее перспективными с точки зрения НЗО2? Уэйр и Янг разработали специальную метрику, используя байесовский метод — хитрый статистический инструмент, позволяющий обновлять вероятности по мере поступления новых данных. Они применили свой подход к списку из 164 солнцеподобных звёзд, которые считаются потенциальными целями для будущей Обсерватории обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory, HWO) — амбициозного проекта НАСА.
Что же показал их анализ? Во-первых, как и ожидалось, возраст звезды играет ключевую роль. У более старых звёзд, приближающихся к концу своего жизненного цикла на главной последовательности, зоны НЗО2 сужаются, поскольку их светимость начинает меняться быстрее. Во-вторых, не все типы звёзд одинаково хороши. Оказалось, что идеальные кандидаты — это звёзды чуть моложе и массивнее нашего Солнца, а также карлики поздних спектральных классов F и G. Они сочетают в себе достаточно долгий срок «спокойной» жизни и достаточно широкие зоны, где условия могут оставаться стабильными на протяжении миллиардов лет.
Но и это ещё не всё! Планеты — это вам не просто каменные шары, пассивно вращающиеся вокруг своих звёзд. Они тоже эволюционируют. Геологическая активность, выбросы углекислого газа из недр — всё это влияет на климат и, соответственно, на обитаемость. По расчётам исследователей, планеты размером с Землю или меньше (0.5-1 массы Земли) могут стать геологически «мёртвыми» уже через 5-7 миллиардов лет. После этого они полностью зависят от милости своей звезды, теряя внутренние механизмы регуляции климата. А вот суперземли — планеты массивнее Земли, но легче газовых гигантов — имеют шансы сохранять геологическую активность и, как следствие, обитаемость, гораздо дольше. Получается, средний возраст по-настоящему обитаемой планеты может быть даже меньше, чем у нашей Земли.

Что дальше? Взгляд в будущее
Работа Уэйра и Янга — это не просто теоретическое упражнение. Это вполне конкретный инструмент, который поможет астрономам более эффективно планировать будущие миссии по поиску жизни. Ведь телескопическое время, особенно для таких сложных задач, как прямое наблюдение экзопланет и анализ их атмосфер, — ресурс чрезвычайно дорогой и ограниченный. И возможность отсеять заведомо менее перспективные цели, сосредоточившись на тех, где шансы на успех выше, дорогого стоит.
Поиск биосигнатур — химических следов жизни в атмосферах далёких миров — задача, прямо скажем, титаническая. Технологии постоянно совершенствуются, но Вселенная неохотно раскрывает свои секреты. Однако понимание того, что обитаемость — это не статичное состояние, а динамический процесс, растянутый во времени, даёт нам более тонкий и информированный подход.
Возможно, именно такая смена оптики — от просто «зоны обитаемости» к «непрерывной зоне обитаемости» — поможет нам однажды ответить на тот самый, главный вопрос. И кто знает, может быть, где-то там, на планете у звезды, которая чуть моложе и массивнее нашего Солнца, жизнь уже успела не просто возникнуть, а основательно «наследить» в своей атмосфере, терпеливо ожидая, пока мы, наконец, наведём на неё свои телескопы. Охота продолжается, и теперь у нас есть более точная карта.