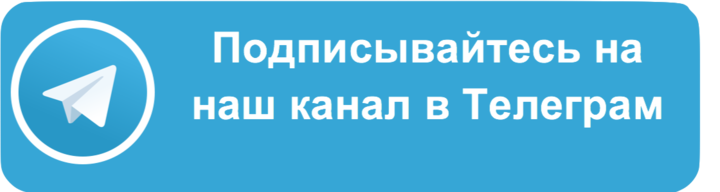Путь в лидеры отечественная школа танкостроения начинала с внимательного изучения англо-американского опыта
Путь в лидеры отечественная школа танкостроения начинала с внимательного изучения англо-американского опытаВ истории отечественного танкостроения немало «веховых» событий, оказавших влияние на дальнейшую направленность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. О некоторых из них продолжает рассказывать читателям «Красной звезды» генерал-лейтенант Александр ШЕВЧЕНКО, начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России.
Первые шаги
С позиций системного взгляда на развитие танкостроения следует высоко оценить годы первой пятилетки. Тогда в стране появилась возможность серийно производить танки, и в 1929 году было создано Управление механизации и моторизации РККА, образованы Научно-испытательный автобронетанковый полигон (Кубинка, 1931 г.) и Академия механизации и моторизации РККА (1932 г.).
В июле 1929 года Совет народных комиссаров СССР утвердил первую танковую программу, которая предусматривала оснащение армии всеми типами бронетанкового вооружения. Вскоре, однако, дало о себе знать отставание отечественной промышленности в разработке конструкций танков, поэтому уже в начале декабря 1929-го было принято решение командировать за границу представителей Наркомата обороны и промышленности для приобретения современных образцов вооружения и получения технической помощи по их производству.
Почти весь период 1930-х годов наши конструкторы и технологи учились делать танки, копируя и «перекраивая» купленные в Америке и Англии танки «Кристи» (серия отечественных танков «БТ») и «Виккерсы» (танки типа Т-26). У англичан была заимствована идея изготовления многобашенных «танков прорыва сильно укреплённых позиций» (отечественные аналоги: двухбашенные СМК и Т-100, трёхбашенный Т-28 и пятибашенный Т-35).
Сложности проистекали в том числе из-за того, что постановка на производство новых танков потребовала рабочих высокой квалификации, а их в начале 1930-х годов в требуемом количестве ещё не было. Да и многие компоненты, необходимые для производства танков (сталь для траков гусениц, резина для бандажей катков, ферродо для дисков сцепления и т.п.), в этот период ещё только создавались.
А-20 против А-32
Первым «детищем» сложившейся в 1930-е годы в отечественном танкостроении системы «исследователь – заказчик – конструктор – промышленность – войска» стал средний танк Т-34. Руководство Автобронетанкового управления РККА 13 мая 1938 года утвердило краткую тактико-техническую характеристику «колёсно-гусеничного танка БТ-20». На этой основе коллектив КБ-24 завода № 183 (г. Харьков) приступил к работе.
Прошло всего три с половиной месяца, как в начале сентября разработанный харьковским заводом проект и макет танка БТ-20 были рассмотрены комиссией АБТУ РККА под председательством военинженера 1 ранга Я.Л. Сквирского. Комиссия утвердила проект с рядом изменений и предложений, в числе которых было: «Изготовить один танк колёсно-гусеничный с 45-мм пушкой, два танка гусеничных с 76,2-мм пушками и один корпус для обстрела».
27 февраля 1939 года на заседании Комитета обороны при Совнаркоме СССР состоялось обсуждение чертежей и макетов танков А-20 и А-32, и большинство присутствующих отдало предпочтение проекту колёсно-гусеничного танка А-20.
Но руководитель КБ Михаил Ильич Кошкин в присутствии секретаря ЦК ВКП(б) и фактического руководителя страны И.В.Сталина высказал свои сомнения в отношении требований заказчика изготовить в металле лишь один колёсно-гусеничный танк и предложил изготовить и представить на государственные испытания две спроектированные заводом № 183 машины – А-20 и А-32.
По данным малотиражной газеты завода № 183 от 27 сентября 1940 года, «обращаясь к заказчику, Сталин предложил не стеснять инициативу завода, дать коллективу возможность работать и разрешить изготовить опытные образцы по обоим представленным проектам».
15 июня 1939 года колёсно-гусеничный танк А-20 был передан военному представительству АБТУ на войсковые испытания, а двумя днями позже начались аналогичные испытания и гусеничного танка А-32. Испытания проводились комиссией под председательством начальника 1-го отдела АБТУ майора Е.А. Кульчитского. В её выводах было, в частности, указано: «Танк А-32, как имеющий запас по увеличению веса, целесообразно защитить более мощной бронёй, соответственно повысив прочность отдельных деталей и изменив передаточные отношения».
По окончании войсковых испытаний на обоих танках был произведён текущий ремонт, после чего в начале сентября 1939 года они были отправлены на полигон в подмосковную Кубинку. А 23 сентября состоялся показ новых танков членам правительства. Машины продемонстрировали свои возможности по преодолению искусственных и естественных препятствий.
В результате наркомами обороны, среднего и тяжелого машиностроения 27 ноября 1939 года на имя Сталина и председателя Совнаркома СССР В.М. Молотова была направлена докладная записка, в которой сообщалось: «…Оба танка прошли все заводские и полигонные испытания… Испытания показали, что эти машины являются непревзойдёнными из всех существующих танков данного типа. Отличаются надёжностью и прочностью ходовой части. На А-32 имеется полная возможность усилить броню до 45 мм без особых переделок, что обеспечит защиту от огня 37-мм бронебойных снарядов».
Полученный результат позволил в пределах отведённой массы увеличить толщину броневых листов танка А-32 до 45 мм и тем самым обеспечить его защиту от огня противотанковых пушек калибра 37 и 45 мм.
Обращаясь к заказчику, Сталин предложил не стеснять инициативу завода, дать коллективу возможность работать и разрешить изготовить опытные образцы по обоим представленным проектам
«1 процент гения и 99 процентов пота»
В феврале 1940 года харьковский завод № 183 предъявил комиссии под председательством полковника В.Н. Черняева на войсковые испытания два первых танка Т-34, которые прошли испытательный пробег сначала в районе Харькова, а затем по маршруту Харьков – Москва и обратно.
Дальнейшие испытания обоих машин продолжались на полигоне в Кубинке. В заключении по результатам испытаний было отмечено, что оба танка соответствуют предъявленным требованиям, но без устранения отмеченных недостатков (всего указывалось скрупулёзно 86 пунктов!) танк Т-34 не может быть допущен в серийное производство.
Для проверки качества выпускаемых серийных танков Т-34 в ноябре-декабре 1940 года был проведён длительный кольцевой пробег трёх танков по маршруту Харьков – Москва – Смоленск – Гомель – Киев – Полтава – Харьков, в ходе которого были выявлены все слабые места танка и определена возможность эксплуатации в отрыве от основных баз. Комиссия сделала свыше 40 замечаний по работе механизмов и агрегатов танка.
Параллельно решалась сложная задача по созданию надёжной танковой пушки и двигателя. В ноябре 1940 года танк Т-34 с новой пушкой Ф-34 подвергся небывало интенсивным испытаниям на Гороховецком полигоне. За три дня из пушки было проведено 2807 выстрелов. На тактических занятиях 23 ноября силами экипажа, выделенного из 14-й танковой дивизии, полный боекомплект танка (77 снарядов) был расстрелян с ходу всего за 44 минуты.
Что касается двигателя, то уже в начале 1930-х годов на основании постановления Совета труда и обороны от 15 ноября 1930 года широко развернулись работы по созданию двигателей, работающих на тяжёлом топливе, однако принятие на вооружение широко известного ныне танкового дизеля В-2 состоялось только 19 декабря 1939 года.
Позднее Александр Александрович Морозов, главный конструктор харьковского завода № 183 имени Коминтерна, писал в своих воспоминаниях: «Т-34… не отличается от любой другой хорошей конструкции, в нём, как и в каждом «гениальном» решении, заложены, говоря словами Эдисона, один процент гения и девяносто девять процентов пота…»
Т-80: рождённый в муках
Не менее интересна судьба другого советского танка, появившегося спустя четверть века. В июне 1976 года к Т-64 и Т-72 прибавился танк Т-80. Истории его появления предшествует заявление тогдашнего руководителя СССР Н.С. Хрущёва о «бесперспективности» тяжёлых танков. Разумеется, после такого «гениального» вывода правительством было принято решение прекратить серийное производство и разработку новых тяжёлых танков. Ленинградское и челябинское конструкторские бюро и заводы остались без оборонных заказов.
Челябинское КБ постепенно отказалось от танковой тематики, а ленинградское КБ после нескольких очень тяжёлых лет и при полном отсутствии перспектив самостоятельной работы получило поддержку со стороны тогдашнего секретаря ЦК КПСС Д.Ф. Устинова, министра авиационной промышленности П.В. Дементьева и бывшего главного конструктора ленинградского КБ, ставшего заместителем министра оборонной промышленности, Ж.Я. Котина.
Именно они помогли «пробить» постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 апреля 1968 года о разработке в КБ ленинградского Кировского завода танка с газотурбинным двигателем мощностью 1000 л.с.
Газотурбинный двигатель имеет много преимуществ перед дизелем. Он очень компактен, не требует наличия системы охлаждения, имеет хорошие тяговые характеристики, не запускается в обратную сторону, как дизель при скатывании танка назад и при несвоевременной реакции плохо обученного водителя. Этот двигатель не глохнет при встрече машиной очень тяжёлого грунта или препятствия, легко запускается в самый сильный мороз.
Однако приспособляемость газотурбинного двигателя к работе в условиях быстрых разгонов и торможений, большого количества остановок на поле боя и необходимости частых пусков, большой запылённости воздуха явилась очень сложной инженерной задачей. Тем не менее конструкторам под руководством Н.С. Попова удалось её успешно решить, и в результате в 1976 году на вооружение был принят первый в мире серийный танк с силовой установкой на базе газотурбинного двигателя. В США танк с ГТД («Абрамс») был принят на вооружение только через четыре года.
Завершая рассказ о советском периоде отечественного танкостроения, отмечу, что война в Персидском заливе с использованием США и их союзниками по антииракской коалиции большого количества бронетанковой техники (весна 1991 г.) дала новый импульс в развитии наших танков. В частности, Уральское конструкторское бюро усовершенствовало танк Т-72Б, повысив его защищённость. В результате в 1993 году на вооружение был принят танк Т-90.
От своего предшественника он отличался использованием усовершенствованной динамической защиты, а также комплекса оптико-электронного подавления «Штора», впервые используемого на танках. Машина хорошо показала себя в ходе испытаний за рубежом, закупается рядом стран и до сегодняшнего дня имеет достаточный экспортный и модернизационный потенциал.
Подпишись: